Андрей Белый
Ранней осенью 1921 года я ехал с Кавказа из армии в отпуск и на несколько дней остановился в Москве.
Шел четвертый год Советской власти.
Жизнь в столице была еще голодной и неустроенной, но улицы пестрели театральными афишами и объявлениями о всяких литературных диспутах и выступлениях.
Бросалось в глаза напечатанное крупными литерами непонятное слово ДЮВЛАМ, что означало: «Десятилетний юбилей Владимира Маяковского».
Но до 19 сентября — даты юбилея — было еще далеко.
В Москве у меня был ночлег у знакомых, у этапного коменданта я получил на три дня хлеб, селедку и сахар — значит, и едой я был обеспечен.
В отличном настроении шагал я по Москве, радуясь своему отпуску и погожему сентябрьскому дню.
Я семь лет все мотался по фронтам, одичал и алкал культуры.
На одной из афиш я увидел, что сегодня во Дворце искусств будет читать свои стихи Андрей Белый.
Дворец искусств помещался на Поварской, в том особняке с колоннами, что слывет у москвичей «домом Ростовых».
Стихи Белого я знал давно.
Я помнил их с 1906 года, прочитав в «Золотом Руне» большой цикл его стихотворений.
С тех пор я постоянно искал его стихи в журналах, читал и оба его романа — «Серебряный голубь» и «Петербург», и статьи о символизме.
В 1910 году я следил за его полемикой с Брюсовым и в этом споре был всецело на стороне Белого1.
Брюсов, притворяясь трезвенником и здравомыслом, ратовал тогда больше всего за профессиональное мастерство в поэзии, даже на «дедушку Крылова» ссылался: «по мне, мол, уж лучше пей, да дело разумей».
Белый требовал от поэта «священной жертвы», напоминая Брюсову его же стихи:
Горе, кто обменит
На венок — венец!
|
В 1908 году в «Золотом Руне» была напечатана музыка Н. Метнера на стихи Белого — «Эпитафия».
Я умел наигрывать одним пальцем мелодию и напевал иногда эти полные безнадежности строки:
Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил, —
А жизнь прожить не сумел2.
|
Ходил ли тогда трамвай в Москве?
Вероятно, ходил, но был сверх меры переполнен.
У меня в памяти, что с Мясницкой на Поварскую я шел пешком.
Народу во Дворце искусств собралось порядочно, но ни одного лица знакомого, да и откуда им быть?
И все же я чувствовал себя среди единоверцев на этой литургии поэзии.
Вешалки не полагалось, я держал свою папаху в руках, а бурку сбросил на стул.
Сперва на эстраду вышел поэт Иван Рукавишников, со своей знаменитой, известной по карикатурам, длинной бородой, и объявил программу.
Затем появился и сам Андрей Белый.
В пифийском трепетанье метался он порывисто по эстраде, как вспугнутая летним днем ночная бабочка в лесу, выкликая строфы поэмы.
Что читал он тогда? «Христос воскрес»? «Первое свидание»?
Я не помню.
Сухие, редкие, всклокоченные волосы нимбом взлетали вокруг его лобастого черепа.
Белые глаза его метали молнии.
Вид у поэта был профетически безумный.
Я внимал восторженно и благоговейно.
Я видел поэта в первый раз, и он мне нравился.
На портрете Бакста3, который я помнил, он выглядел совсем по-иному: длинный сюртук, бутоньерка, несколько накрахмаленный вид «приват-доцента».
Сейчас он выглядел более «стихийно» и значительно.
Я был благодарно взволнован, хлопал неистово и готов был целовать воскрылия его одежды.
Я испытывал чувство благодарности к поэту и за то еще, что он остался с нами, не эмигрировал, а ведь он был куда более космополитом и западником, чем, скажем, Бунин или Шмелев.
***
Прошло двенадцать лет, и судьба на этот раз свела нас ближе.
Николай Васильевич Ильин, главный художник ГИХЛа, предложил мне проиллюстрировать роман Андрея Белого «Маски».
Я прочитал рукопись, стал работать над эскизами и, когда их скопилось достаточно, пригласил автора взглянуть на них.
Белый приехал.
Читая позднее его переписку с Блоком, изданную Литературным музеем, я понял, что Борис Николаевич Бугаев, подобно гофмановскому студенту Ансельму из «Золотого горшка», жил всегда в мире фантасмагорий и тайн.
Мир этот был полон ужасов, опасностей, враждебных козней, «змеиности, тайно скользящей»: «Когда я один, кто-то, тихо подкравшись, подсматривает в еле видную скважину двери сереющим мертвым лицом».
Он и ко мне в комнату входил с настороженным, недоверчивым видом, с готовностью ко всяким «западням».
Приехал он с Плющихи на Новокузнецкую — не ближний конец!
Стояли сильные морозы.
С детской беспомощностью он освобождался от теплых вещей и шарфов, которыми был обмотан.
Тревога и смятение читались на его выразительном лице.
Но у меня был приготовлен «ордер на доверие».
Я достал с полки номер «Весов» за 1909 год, где были напечатаны мои юношеские рисунки, рядом с главой из «Серебряного голубя», который тогда в этом журнале печатался4.
Значит, мы уже были когда-то соседями, я печатался в «Весах», я был «свой».
Я развернул перед ним эскизы к «Маскам».
Он рассматривал их внимательно, с большим любопытством.
— Скажите что-нибудь, Борис Николаевич.
— Нет, нет, я не хочу давить на вашу волю, в своем творчестве вы полный хозяин!
Но я видел по его лицу, что некоторые эскизы ему нравятся, другие — озадачивают.
— Борис Николаевич, вы ведь представляете себе облики героев романа?
— Конечно, совершенно точно, от цвета волос до тембра голоса!
— Тогда попробуйте нарисовать их для меня, у меня будет гарантия, что я не вступлю в противоречие с авторским замыслом.
Он согласился, и мы условились, что я зайду за его рисунками через несколько дней к нему на Плющиху.
Он собрался уходить и стал заматываться в свои шарфы.
Вязаные варежки были у него пришиты на резинках к рукавам, как это делают заботливые мамаши малым детям.
Одевшись, он приготовил монетку для трамвая, чтобы не искать ее по карманам в вагонной тесноте, зажал в ладони, натянул варежку на кулак.
Несколько раз проверил, все ли на месте, не упущено ли что, не забыто ли?
Жизнь чертовски сложна, столько вещей надо предусмотреть!
Через некоторое время я пошел на Плющиху.
Андрей Белый жил в ту пору в полуподвальном этаже, по тогдашним масштабам — даже и не очень тесно и не очень темно, но на беду за углом дома была молочная, где в иные дни «выдавали» творог — продукт по тем временам дефицитный.
Очередь за творогом двигалась вплотную мимо окон рабочей комнаты Белого, закрывала свет — в комнате становилось темно.
Белый бежал к окну и кричал в форточку истерически: «Здесь живет писатель! Не мешайте ему работать!»
Толпа шарахалась в сторону, и ноги, двигавшиеся мимо окон, исчезали.
Но проходило немного времени, и мучения поэта начинались снова: опять вереница ног двигается у самых окон и опять в комнате наступает затмение.
— Я живу под хвостом! —; восклицал Белый патетически, придавая этим словам какое-то апокалипсическое значение.
Он приготовил для меня рисунки действующих лиц на клочках бумаги и стал их показывать с некоторой неловкостью, с какой дилетант демонстрирует свои работы перед профессионалом.
Рисунки были детски неумелые, в таком же роде рисунки Белого воспроизведены в томе переписки с Блоком, но они мне очень пригодились.
Белый обладал даром схватывать характерное, и некоторые его портретные формулировки я перенес в свои иллюстрации почти целиком.
Вообще он любил рисовать и показал мне еще целую пачку акварелей.
Это были пейзажи Теберды, в которых он пытался запечатлеть хаотическое нагромождение теснящихся друг за другом горных цепей в их разноцветном звучании — вершины, освещенные солнцем, и синие тени ущелий5.
Я продолжал работать над иллюстрациями, и мои визиты на Плющиху продолжались.
Я не очень люблю показывать свои работы авторам в незавершенном виде, но на этот раз автор был так благожелателен, так деликатен, так тонок и осторожен в репликах, что ему можно было без опаски показать даже самые торопливые черновые эскизы.
Он был всегда порывист, тревожен, исполнен скрытых молний.
Он много и плодотворно в ту пору работал и был полон творческих планов: романы, автобиографический цикл, книга о Гоголе.
Я всегда заставал его за ворохом рукописей.
Его влияние на советскую литературу первых послеоктябрьских лет и сейчас неоспоримо, тогда оно ощущалось еще больше.
Однажды на пути к нему я купил в газетном киоске номер какого-то немецкого журнала, где были опубликованы снимки штейнеровского «Иоаннова Здания» в Дорнахе и группы строителей — поклонников и поклонниц Штейнера.
Белый сам когда-то принимал участие в строительстве «Иоаннова Здания» и уехал из Швейцарии на родину в разгар постройки, во время первой мировой войны.
Борис Николаевич при виде снимков разволновался страшно.
Особенно когда в группе «строителей» он разглядел Асю Тургеневу, свою первую жену, которая осталась в Дорнахе «у ног Учителя».
Он рассматривал снимки с восклицаниями и комментариями, угадывая в группах своих знакомых.
Вообще-то он избегал разговоров о Штейнере и своем дорнахском периоде, хотя портрет «Учителя» висел у него над письменным столом.
Я как-то зашел к нему по делу с рисунками.
Мы сидели и разговаривали, но, услышав звонок и чей-то голос в передней, он вдруг всполошился, вскочил и сказал: «Нам придется продолжить наш разговор на улице».
Мы ушли и устроились на лавочке бульвара.
Он мне тут же объяснил, что сбежал из дому потому, что «дал обещание» ни с кем из прежних своих знакомых антропософов не встречаться, а сейчас к его жене пришел кто-то из них, и он, чтобы избежать встречи, — ушел от греха подальше.
Все это в волнении, с восклицаниями, с непрестанными затяжками «Беломором».
Курил он запойно, беспрестанно, зажигая одну папиросу от другой.
Однажды в присутствии писателя и переводчика Н. он восклицал, бегая по комнате: «Мы должны посещать друзей, облачившись в белые одежды!
Душу свою, осиянную светом радости, должны мы нести в дар своему собеседнику!
Мы не должны тащить с собой весь душевный мусор!
А от наших встреч не остается ничего, кроме груды окурков!»
Он указал на пепельницу; зрелище было внушительное!
И Белый и Н. курили взапуски, и пепельница была наполнена через край.
А когда Н. ушел, хозяин сказал: «Добрый и милый человек, старый друг, но заходит всякий раз в конце дня после суеты редакций и скуки заседаний.
Сидит, молчит и курит, нагоняя тоску!»
Александр Мелентьевич Кожебаткин, издатель «Альционы», узнав как-то при встрече, что я направляюсь к А. Белому, выразил желание посетить его, «возобновить старое знакомство».
По-видимому, у Кожебаткина были основания искать посредничества третьего лица, потому что Борис Николаевич, открывая нам дверь, сделал большие глаза.
Разговора не получилось, хотя они и были по-старому на ты.
Александр Мелентьевич, человек тонкий, почувствовал холодок в воздухе, но не подал вида: рассказал забавный анекдот и откланялся.
Оказалось, что причиной холодного приема были какие-то старые счеты между издательствами «Мусагетом» и «Альционой»: «Мусагет» прогорает, а Кожебаткин разъезжает по Москве на дутых шинах, в цилиндре и с орхидеей в петлице!»
«Сущее дите! — сказал Кожебаткин с досадой, узнав о претензиях к нему Андрея Белого.
— Что он понимает в издательских делах?»
Весною, когда Белый поехал на курорт, доктора категорически запретили ему курить.
Вернувшись, он пытался выполнять это предписание, но часто его нарушал, особенно когда волновался.
А причин для волнения было на этот раз особенно много.
Только что вышел новый том его воспоминаний с предисловием обидным и оскорбительным для автора книги6.
В предисловии этом русский символизм и вся деятельность А. Белого определялись как «задворки культуры».
Статья была помещена в книге без ведома А. Белого и явилась для него полной неожиданностью.
Кажется, это был первый случай принудительного вселения в книгу к живому автору неприятного сожителя «по ордеру».
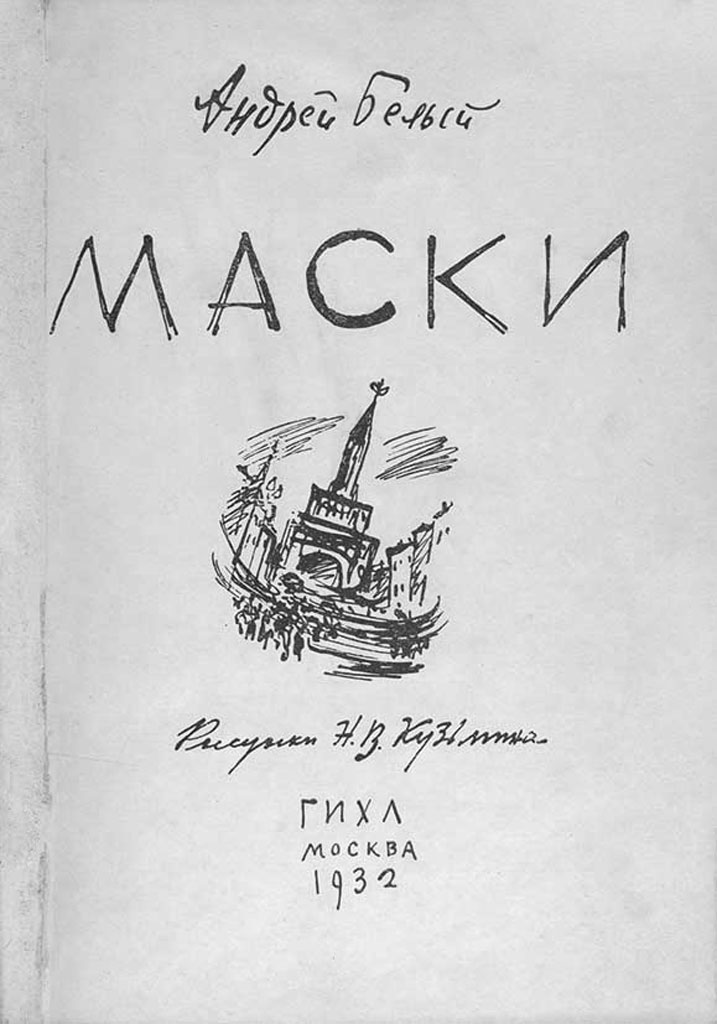
А. Белый, Маски, 1932 год, обложка
рисунки Н. В. Кузьмин
|
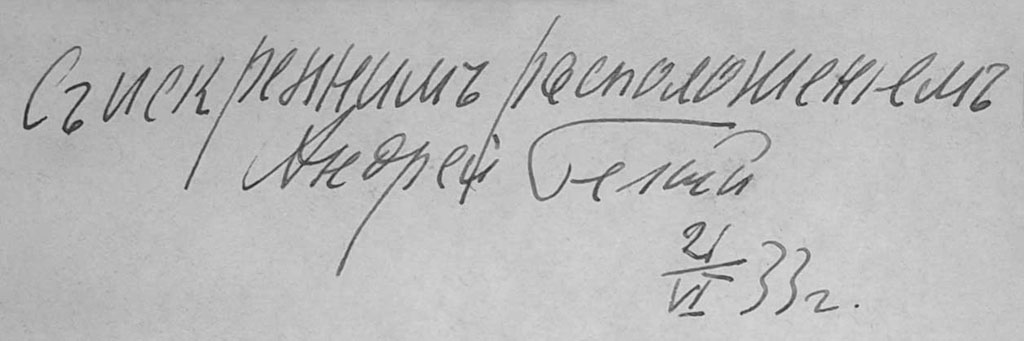
автограф А. Белый, Маски, 1932 год
|
Между тем, когда иллюстрации к «Маскам» были закончены, Н. В. Ильину пришла мысль воспроизвести в книге еще и портрет автора, и не фотографию, а рисунок.
Я сделал с Андрея Белого несколько набросков пером.
В них было кое-что схвачено: его лобастый череп, белые глаза...
Некоторые из них нравились и Белому, и жене его — Клавдии Николаевне, снисходительным, может быть, из деликатности.
Сам же я остался недоволен своими портретными набросками и не захотел давать их для воспроизведения.
Кстати вспомнить: портрет Л. Бакста, воспроизведенный в «Золотом Руне», и портрет Н. Вышеславцева Белому совсем не нравились.
В книге был напечатан портрет работы В. Милашевского, на мой взгляд — очень выразительный и схожий.
Н. В. Кузьмин
«Давно и недавно»
Советский художник, Москва, 1982 год
Впервые воспоминания о А. Белом напечатаны в журнале «Звезда» № 5, 1972 год под названием «Иллюстрируя Андрея Белого».
1 речь идет о статье Белого «Венок или венец», Аполлон, № 11, 1910 год, написанной как отклик на статью В. Брюсова «О речи рабской в защиту поэзии», Аполлон, № 9, 1910 год
2 в сборнике «Пепел» стихотворение озаглавлено «Друзьям»
3 имеется в виду рисунок Л. Бакста, датированный 1906 годом
4 роман был написан в течение 1909 года и печатался по мере готовности глав в журнале «Весы», №№ 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12
5 рисунки Белого воспроизведены в книге Проблемы творчества и там же помещена статья Н. А. Кайдаловой «Рисунки Андрея Белого»
6 речь идет о предисловии Л. Каменева к первому изданию книги «Начало века», Москва–Ленинград, ГИХЛ, 1933 год
|